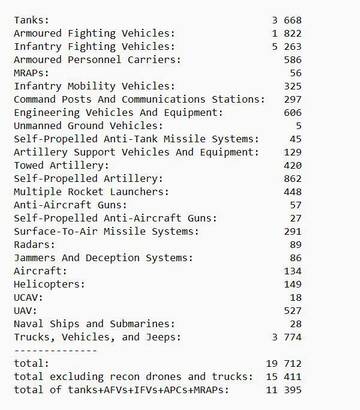𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть I)
Планомерно буду возвращаться к публикации текстов и статей, и в качестве «разогрева» предлагаю обсудить очень интересную, злободневную и глубокую тему.
Тему советской бронетехники.
Не столь давно старший товарищ прислал мне почитать заметки на данную тематику, опубликованные на канале одного популярного российского военблогера. Заметки, как следовало из описания, были написаны действующим военнослужащим ВС РФ, и... оттого они представляют большой интерес.
Интерес вовсе не практической стороны дела, должен заметить – ведь военное искусство и создаваемые в его рамках предметы являются чрезвычайно сложным сплавом творчества, опыта, национальных черт и воззрений... словом, все в этой сфере пропитано человеческой субъективностью, сколько бы теоретики не пытались загнать ее в рамки одних лишь расчетов и цифр.
И именно об этой субъективности мы и будем говорить далее.
В далеких ныне 60-ых годах XX века Советский Союз произвел настоящий фурор, создав новый класс бронированных машин – БМП, боевых машин пехоты. Этим фактом можно было действительно гордиться – ракетно-ядерная эпоха требовала нестандартных решений в транспортировке пехоты; казалось, война, какой ее знали еще в 40-ые годы, более невозможна. Армиям требовалась техника, способная функционировать и выживать в условиях, когда боевая обстановка представляла собой мешанину ядерных ударов, полного хаоса, отрыва от тыловых частей, потерь цепочек командования. Необходима была автономность во всем: в огневых средствах, форсировании водных преград, в возможности прохода зон радиоактивного заражения.
БМП-1 была единственной в мире машиной для транспортировки пехоты, которая отвечала на момент своего появления всем вызовам времени. Она могла плавать, имела вооружение на уровне легкого танка, низкий силуэт, позволяющий использовать складки местности и избегать взрывной волны от применения тактических ядерных боеприпасов – и при этом несла в своем чреве отделение мотопехоты, которая была загерметизирована от внешней среды. Пехоте, конечно, было несладко – десантное отделение было наименее продуманным местом в машине, но ведь на пороге была атомная война, а она не прощала изысков и сантиментов.
Словом, БМП-1 была великолепной машиной... великолепной машиной для войны, выдуманной от начала и до конца теоретиками. Войны, которой никогда не было, войны, которая не имела ничего общего с теми войнами, в которых БМП-1 и ее «потомки» в последствии применялись на практике.
Это была машина, которая в действительности с самого начала своего появления не отвечала своей ключевой задаче – она не могла адекватно транспортировать пехоту, для чего и создавалась как новый класс техники.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть II)
Логично задать вопрос – как же так вышло? Ведь СССР кормил тысячи военных ученых и технических специалистов – неужели они не видели столь очевидного недостатка?
Дело здесь заключается в специфике советского военного мышления. Если хотите, его субъективности, особенностях национального воззрения...
В наши дни мало кто понимает один забавный и важный факт о советской военной школе – в корне своем она всегда ставила своей целью вычеркнуть человека как фактор, влияющий на боевые действия. Не буквально, нет – люди рассматривались как расходный статистический инструмент войны, но сама концепция военного дела (в противовес капиталистическому военному искусству) должна была нивелировать их положение до состояния автоматонов, приставленных к винтовке, танку или же самолёту. Весь процесс ведения боя должен быть загнан в расчеты и схемы, максимально механизирован и автоматизирован; техника должна превалировать в ценности и значении над человеком.
Попытки реализации данной концепции активно предпринимались еще до Второй Мировой – СССР строил колоссальные полчища танков и иной техники. Что было первопричиной таких взглядов, сказать трудно – возможно, это было веяние 20-ых годов, когда необразованные и замкнутые на собственном локальном опыте военные учёные молодой страны пытались родить некую мысль в противовес передовым воззрениям французской и немецкой военных школ. Позже веяние легло на понимание того, что общий интеллектуальный потенциал страны был довольно низок – несмотря на всеобуч, Советская Россия была страной, где преобладало преимущественно малограмотное население, лишенное технической культуры, культуры фабричного труда и прочих важных аспектов, которые формировали высококлассный материал для армий Европы. Эту крестьянскую массу было возможно обучать каким-то несложным алгоритмам работы с техникой, массировать, механизировать – и, как предполагалось, благодаря этому более-менее успешно применять.
Опыт Финской кампании и Второй Мировой войны должен был продемонстрировать порочность этих идей, но он лишь в конечном итоге укрепил советскую военную и техническую школу в мысли и верности выбранного направления. К слову сказать, касалось это не только военной сферы – к примеру, имевшей в 60-ых огромный потенциал советской космонавтике еще в младенчестве были подрублены ноги самим же Королевым, который был фанатично одержим идеей полной автоматизации космических полетов. Несмотря на неспособность СССР производить сложную автоматизированную технику, отцы советской космонавтики упорно отрицали перспективы пилотируемых полётов, итогом чего стало закономерное отставание Советов в «космической гонке» уже к 1966 году (оппонировать этому пытался фактически один лишь генерал Каманин, куратор от ВВС, за что в конечном счёте и поплатился).
Несмотря на моря пролитой крови, концепция советских теоретиков осталась прежней: машина превыше всего. Человеку же отводилась все та же роль вспомогательного инструмента, который должен был направлять технику, способствуя претворению заранее просчитанного по всем мыслимым и немыслимым формулам замысла.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть III)
После Второй Мировой войны у СССР была возможность полного изменения устоявшихся парадигм военного строительства, однако тому вновь пропятствовало «субъективное» – факторы политического характера. Взращивание офицерского корпуса в классическом его виде, как слоя независимо мыслящих компетентных военных интеллектуалов представлялось делом чрезвычайно опасным в качестве фактора, дестабилизирующего центральную власть (про послевоенные чистки армии, надеюсь, знают все).
Поэтому концепция «античеловечности» осталась неизменной, и в ее рамках создавались новые поколения военной техники.
Пехота как таковая в поствоенном СССР не рассматривалась в качестве хоть сколько-нибудь значимого военного актива – фактически, она была упразднена, а ее роль сведена до придатка к бронированным машинам. Само слово «мотострелок» вполне четко (нужно отдать должное, советский понятийный аппарат всегда выстраивался безупречно) характеризует роль данной боевой единицы на поле боя. Все «избыточные» и слишком уж «сложные» специальности навроде снайперов в советской поствоенной пехоте просто упразднялись за ненадобностью – предполагалось, что все задачи на поле боя могут быть решены превосходящей огневой мощью бронированной техники, а роль пехоты... третьестепенна. Она требовалась лишь для уплотнения боевых порядков и сковывание своих коллег с противоположной стороны.
Соответственно, и проектирование бронемашин в интересах той самой пехоты не рассматривалось как вообще хоть сколько-нибудь приоритетная задача. Советская БМП-1 по своему характеру была фактически легким танком, и транспортировка десанта в ней была исключительно функцией второстепенного порядка.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть IV)
Безусловно, не все ответственные люди в Советах были сторонниками идей технофетишизма, и более того – далеко не все были исключительно теоретиками. СССР активно воевал чужими руками в десятках конфликтах по всему земному шару, набирая, казалось бы, огромные массивы данных из реального боевого опыта. Советские военные советники имели возможность как испытать на практике собственные доктрины, так и увидеть в действии чужие – только вот дальше докладов этот опыт не шел и не развивался.
Успевшая окончательно «забронзоветь» к началу 70-ых военно-промышленная мафия подчеркнуто игнорировала всю информацию критического характера, какая поступала из Африки, Ближнего Востока и Индокитая, воспринимая ее исключительно через призму нападок на собственное привилегированное положение. Соответственно, никаких позитивных изменений быть просто-напросто не могло – ведь для этого нужно было начать признавать допущенные катастрофические ошибки, а за ошибки, очевидно, кто-то должен был ответить.
Так продолжалось до момента начала кампании в Афганистане, когда вдруг выяснилось, что что-то все-таки пошло не так.
В Афганистане стало понятно, что война – это набор уникальных условий, диктуемых внешними факторами, а не идеальный сценарий действий, придуманный кабинетными теоретиками. Что ключевой боевой единицей все еще является пехотинец, что ставка на механизированные армады и вес залпа – вещь в себе и не дает какого-либо ощутимого результата (и не давала такового в ближневосточных конфликтах, где советские парадигмы раз за разом с треском проваливались на поле боя, сколь упорно бы советские маршалы не сталкивали огромные объемы техники, и не менее упорно винили во всех неудачах арабов).
Что в реальной войне техника не маневрирует между холмами, прячась от ударной волны детонирующих тактических ядерных боеприпасов, а наезжает на фугасы, попадает под огонь противотанковых ракет и тяжелых пулеметов – а пехотинец в ней оказывается фактически смертником, обреченным на мучительную смерть без шанса выбраться, да еще и в неудобной позе.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть V)
Справедливости ради, опыт Афганистана все-таки поколебал сложившиеся за десятилетия советские взгляды на военное искусство. Впервые (!) со времен Второй Мировой изменились (в корне изменилось!) оснащение и экипировка советского пехотинца, больше внимания стало уделяться качеству индивидуальной подготовки, появилось больше пехотных же вооружений.
Была предпринята и робкая попытка модернизации основного средства транспортировки пехоты на поле боя – БМП-1.
В контексте Афганистана разного рода «эксперты» часто делают акцент (ключевой акцент!) на изменении ее вооружения. Это более чем красноречиво подчёркивает то, что коллективное «военное бессознательное» в России ставит во главу угла. В действительности, главное изменение лежало в противоположной плоскости – советские конструкторы отказались от идеи плавучей машины и сделали для теперь уже БМП-2 комплект дополнительного бронирования, стремясь повысить ее защищенность и обеспечить выживаемость пехоты внутри десантного отделения.
Изменило ли это в корне характеристики машины? Конечно, нет. Она все также мало была приспособлена для безопасной и удобной транспортировки пехотного отделения в силу конструкции машины и ее десантного отсека, однако это был первый и важный шаг в правильном направлении. Первая попытка правильного распределения приоритетов.
Он же, увы, оказался последним.
Далее последовал распад СССР и восхождение еще более концентрированного продукта наплевательского отношения к пехоте, человеку, его жизни и достоинству – была создана БМП-3, по которая по сути своей стала прямой продолжательницей концепции, заложенной в БМП-1, еще и гипертрофированно развитой.
Эта машина, пожалуй, была бы безупречна, не будь в ней десантного отделения вообще – ведь по сути своей это все тот же легкий танк. Из-за чрезмерно развитого боевого модуля и попытки реализации разного рода сомнительного функционала (в виде, например, сохранения возможности самостоятельного форсирования водных преград) бронирование машины несет исключительно формальный характер, развитого десантного отделения в ней просто-напросто нет, а огромный объем взрывчатки в боекомплекте превращает ее в своеобразный аналог «шахид-мобиля» (что не раз демонстрировал опыт боевых действий).
Но главным достоинством БМП-3 было ее паспортное превосходство над всеми мировыми аналогами. По сей день вы не найдете машины, по бумаге имеющей мощное вооружение, якобы сопоставимой по степени защищенности с БМП Bradley (правда, ее тактично сравнивают с самыми ранними Bradley...) и вместимостью десанта. По столь любимым советско-российской военной наукой теоретическим выкладкам и сухим цифрам она отвечает всем мыслимым и немыслимым требованиям – и даже превосходит их.
Словом, как и ее прямой предок в лице БМП-1, БМП-3 была машиной, созданной из оторванной от реальности теоретизации во славу самой теоретизации.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:42 AM]
О машинах и не только (часть VI)
Раз уж наш рассказ является повествованием многоуровневым и посвящен не одной лишь технической части, стоит сделать еще одно лирическое отступление и прояснить некоторы е моменты.
Характерной чертой российской (советского) всегда была любовь к абстракциям. Среднестатистический россиянин с трудом может уместить в своей голове мысль о том, что государство – не некий абстрактный левиафан или «машина управления», а набор из таких же людей, как и он, со своими представлениями о прекрасном. И решения принимаются не абстрактным «государством», а конкретным человеком, исходя из его собственного видения, будь оно ошибочно или нет.
Эта особенность мышления имеет прямое отношение и к сфере военного искусства. Каждое решение в ней – от мала до велика – всегда принимается вполне определенным лицом, а не какой-то там «военной машиной».
Когда вы смотрите на военную технику, вы видите не железо, отнюдь нет. Железо – лишь материальная форма чьей-то идеи, мысли, чьего-то представления о предмете, которое было претворено, масштабировано и стало применяться. За каждую деталь в технике кто-то несет ответственность. Ее создают люди – люди, далеко не всегда чистые на руку, не всегда компетентные, не всегда вообще понимающие, что они делают.
Всю историю существования СССР военная экономика в нем занимала самое привилегированное положение из возможных. Именно там оседали и осваивались практически безотчетно чудовищные по всем меркам средства – в действительности, мы даже никогда не сможем узнать, какие, ведь Советский Союз маскировал свои военные расходы, прибегая к методике финансированию военных проектов не по линии оборонного ведомства. К примеру, самый дорогой в истории СССР военный проект ЗГРЛС «Дуга», стоивший как пять танковых армий, формально относился к... Министерству радиоэлектронной промышленности.
Где распределяются большие деньги – есть и большая, ожесточенная конкуренция. О подковерных баталиях и побоищах в советских министерствах и конструкторских бюро можно было бы снимать великолепные остросюжетные фильмы, ведь в них приходилось буквально выживать. Самый лучший аппаратчик получал все, худший получал забвение, слабый – умирал (кроме шуток, если даже навскидку прикинуть количество советских инженеров и академиков, которые кончали жизнь инсультами в 40-50 лет, то становится понятно, что люди в этом деле буквально сгорали. И это не преувеличение).
Естественно, эти «крысиные бега» оказывали прямое влияние на всю военную продукцию, выпускаемую в СССР. Проекты конкурентов нещадно давились, будь они хоть стократ лучше, технические команды разгонялись по медвежьим углам, если не имели достойного покровителя на нужном этаже Министерства, уже запущенное в серию отчаянно отстаивалось, даже если оно не отвечало никаким требованиям.
По этой причине ситуация лишь консервировалась, никакая информация критического характера не получала дальнейшего хода, ошибки переосмыслялись лишь в случае действительно катастрофических последствий. О какой-то работе на абстрактное «общее дело» уже в середине 60-ых речи не шло. Люди делали состояния, люди делали карьеры, люди создавали собственные династии в рамках урванного ими кусочка «военно-технического пирога».
Ключевой задачей военной системы стало самосохранение и расширение – она вбирала в себя все больше людей, все больше власти, все больше рычагов влияния. В действительности, любые миллиардеры что того времени, что наших дней – нищие, жалкие и едва ли влияющие хоть на что-то люди в сравнении с советскими маршалами.
Вот советские маршалы действительно распределяли и владели (о нет, не какое-то там абстрактное государство!) совершенно умопомрачительными средствами. Просто роскошь их жизни выглядела менее очевидно – зачем строить яхту и встречаться с фотомоделями, если можно одним звонком организовать себе ракетный крейсер, на палубе которого будет танцевать женский военный ансамбль «Ласки и пляски»?
Так что система военного кормления лишь росла и ширилась, а качество создаваемой в ее рамках продукции никого не волновало.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:43 AM]
О машинах и не только (часть VII)
С распадом СССР ситуация, конечно, нисколько не улучшилась – напротив, сокращение цепочек распределения средств вызвало еще более ожесточенную внутривидовую борьбу в военно-технической среде, в результате которой выжили далеко лишь не все.
Если некая скверная практика реализуется на регулярной основе, она становится системой. Становясь системой, она постепенно мутирует в национальную черту.
То, что некогда было советской практикой, стало российской национальной чертой. Озверелая конкуренция за резко сократившиеся бюджетные средства между конструкторскими бюро и военными заводами привела к тотальной аннигиляции всех военных производств, не имевших покровителей среди высших чиновников. Если в советский период итогом поражения в аппаратных играх была ликвидация конструкторских коллективов и свержение главных конструкторов, то в российский физически уничтожались сами производственные мощности, способствуя тем самым формированию абсолютных монополий.
При этом общий интеллектуально-технический потенциал страны кратно снизился, о советских возможностях финансирования исследований и разработок оставалось только мечтать – а потому говорить о создании новых типов военной техники более не приходилось. Возможным оставалось лишь производство советских же проктов на советских же мощностях без каких-либо дальнейших перспектив и коренных изменений. Более того, новая модель госфинансирования и полная монополия оставшихся военных заводов избавили последние от малейшей необходимости осмысления того, какую, какого качества и под какие задачи продукцию они производят.
Ее все равно гарантированно купят, и купят по стоимости кратно выше советской – а значит, и стимулы к развитию и изменению просто-напросто отсутствовали.
Можно сказать, что в производство военной техники в РФ превратилось в своего рода ритуальное действие. Никто уже не знал, зачем, лишь с трудом догадывались, как... но, это приносило большие деньги.
@atomiccherry 💯
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘, [2/15/2025 8:43 AM]
О машинах и не только (часть VIII)
Я не знаю, будет ли все это многомерное повествование понятно большей части читателей. Нужно признать, что многие в наши дни утеряли способность понимать большие тексты и даже при последовательном изложении мыслей и фактов не могут связать написанное воедино, цепляясь лишь за какие-то обрывочные фразы. Я буду надеяться на лучшее, ведь я дал обширный контекст, приложив все возможные старания для того, чтобы прояснить ключевую мысль: техника – это идея. Это не плод недр абстрактной «государственной машины» или «корпорации», это чья-то идея, чья-то жизнь, чья-то борьба за власть, чьё-то заблуждение. Человеческих страстей и субъективности в этой теме, в действительности, намного больше, чем технических материалов.
Быть может, эта простая мысль не будет понята.
Когда я пишу про «национальное мышления» и «национальные черты», я нисколько не стремлюсь к художественному преувеличению обсуждаемой в текстах проблемы. Напротив, это лишь емкий (и нисколько не оскорбительный) ответ на вопрос, почему ситуация с военной техникой в Северной Евразии сложилась именно таким образом, каким мы ее наблюдаем, и почему она не имеет никаких перспектив для изменения.
А теперь обратимся к первоисточнику, побудившему меня написать эти тексты:
Мы вступили в СВО с надёжным и проверенным парком ББМ, который был обкатан во всех постсоветских конфликтах с участием нашей Армии.
Мы хорошо также знали о всех недостатках наших лёгких ББМ и надо отметить, что не сидели сложа руки, а занимались их модернизацией.
Так войска получили модернизированную «единичку» - БАСУРМАНИН, а «двойки» - модуль БЕРЕЖОК, но далеко не все машины прошли модернизацию
Напомню, это слова профессионального военнослужащего, который в том числе выступал в качестве пользователя перечисленных в цитате типов техники. И среда, в которой он профессионально рос, заставляет его смотреть на технику пехоты, игнорируя сами потребности пехоты. Он пишет о полученном опыте и вынесенных уроках, воплощенных... во все том же увеличении огневых возможностей машин при полном игнорировании того факта, что свою целевую задачу они выполнять не способны.
Идем далее:
Самой современной БМП на вооружении общевойсковых подразделений является БМП-3. 100-мм пушка фактически превращает её уже в машину огневой поддержки. Моя самая существенная претензия к этой, в целом все-таки удачной машине - посадка и высадка десанта
И здесь мы видим еще более яркую демонстрацию весьма специфической расстановки приоритетов. Автор распаляется в эпитетах по поводу огневой мощи БМП-3, называя ее « в целом удачной машиной», и лишь мимоходом отмечает, что условий под транспортировку и боевого развёртывания десанта, для которой она формально предназначена, не созданы надлежащие условия.
Мы воотчую наблюдаем настолько устоявшуюся и закостенелую парадигму, что никакой опыт боевых действий не в состоянии хоть немного поколебать её – ведь для этого необходимо осмысление и анализ фактов, а таковое невозможно там, где процветают лишь догмы почти религиозного характера.
@atomiccherry 💯