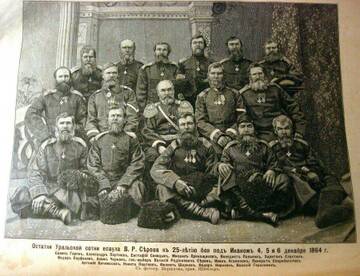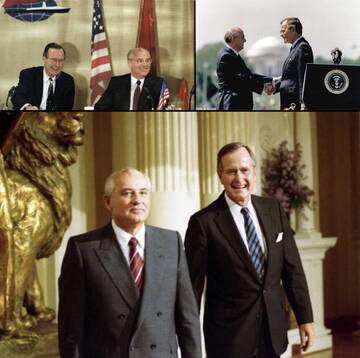Сначала отвечу на Ваши вопросы, касающиеся «вооружённого населения» и его боевой эффективности.
На самом деле, - для России даже в Новейшей Истории имелись прецеденты такого вот «вооружённого населения» (хоть и с некоторой спецификой). На пример, в 1918 – 1919 годах в т.н. «Северной области» (подконтрольной «бело-эсеровскому» правительству в Архангельске и иностранным/британским интервентам) было создано т.н. «Национальное Ополчение» из местных жителей, которые не подлежали мобилизации в действующую армию. По сути, - было реализовано «швейцарское» право на оружие для всех дееспособных (+ «политически надёжных») граждан – в сельские общины северян было передано стрелковое оружие и боеприпасы для «самоохраны» и даже выполнения полицейских и военно-полицейских функций (в частности, подразделения «НО» использовались в качестве тыловой военной полиции / охраны военных и гос. объектов даже на кораблях военного флота, чьи экипажи считались (и были) недостаточно «надёжными» с точки зрения властей.
Ополченцы сопровождали обозы, осуществляли аресты (в том числе действующих военных, нарушавших общественный порядок в тылу), в отдельных случаях – привлекались для участия в боевых действиях на территории своих общин, если они там происходили. В целом, подразделение «НО» показали высокую надёжность в выполнении такого рода функций. Но, конечно, говорить о них, как о некоем «полноценном войске» нельзя – на фронте воевали (в 4-х регулярных бригадах – 12 полков + отд. Части) строевые армейские части, некоторое время державшие фронт даже после ухода главной силы – интервентов. Так что схожий «сирийский пример» (о котором, я, конечно, тоже знаю) – для нас не нов.